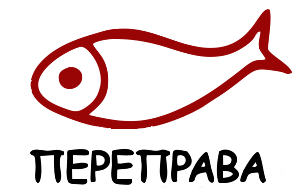Дал бы Господь вернуться России к глубине и высоте Виктора Петровича в высшие часы его милосердной, страдальческой, истинно христианской жизни.
Валентин Курбатов
Мне выпало счастье войти в число сотрудников коллектива, работавшего над 15-томным Собранием сочинений писателя; со студентами-филологами Красноярского госуниверситета собирать фольклор в астафьевских местах, писать вступительную статью к одному из библиографических указателей творчества писателя, вести спецсеминар в КГУ «Нравственная проблематика в произведениях В. Астафьева».
Удивительна его жизнь, в которой, что ни возьми, хочется назвать феноменом. Да хотя бы то, что, оставшись без матери (утонула в Енисее, когда ему было всего восемь лет), хлебнув детдомовской и беспризорнической жизни, не имея возможности получить образование (всего шесть классов окончил), испытав сполна голод, холод, нищету, потеряв на войне один глаз и здоровье, сумел он себя развить до уровня писателя мирового масштаба, книги которого издаются чуть ли не на всех языках мира.
Вчитываясь – вдумываясь в книги В. Астафьева, мы всё более утверждаемся в мысли, что истинная слава их ещё впереди. «Большое видится на расстояньи». Возрастание интереса к творчеству писателя происходить будет вместе с возрастанием нравственной и духовной культуры, ибо подобное познаётся подобным. Писатель всю свою жизнь самосовершенствовался. («Всю жизнь я учусь на писателя», – не раз повторял он.) Взять бы да выписать из его книг названия произведений, которые он упомянул в различных обстоятельствах по разным поводам, и то получился бы внушительный (и, наверное, поучительный) список. Классическую русскую литературу знал и любил, особенно горячо Н.В. Гоголя, считая, что «Он, как планета наша, видимо, неповторим в мироздании мысли, слова и природности, да и в изображении России и россиян»; чтил гений А.С. Пушкина, цитировал М.Ю. Лермонтова, поражаясь его глубине и зрелости в столь юном возрасте; любил И.А. Бунина, Н.С. Лескова, Л.Н. Толстого, «Тихий Дон» М.А. Шолохова. У А.Т. Твардовского особо выделял поэму «Василий Тёркин», знал и любил Шекспира, лирику Петрарки, книги Моэма, Маркеса, Олдингтона, не уставал восхищаться Сервантесом, называя его самым добрым гением нашей недоброй планеты и часто повторяя слова Ф.М. Достоевского о том, что человечество в своё оправдание положит к ногам Христа именно эту книгу.
Хотела назвать ещё имена, но они составили бы целую библиографию, ибо только в книге «Крест бесконечный» – в письмах друг другу – В.П. Астафьев и В.Я. Курбатов коснулись мимолётно, к слову пришлось, более трёхсот имён.
Двадцать восемь лет писали – беседовали друг с другом – два русских мужика, сердца которых больше всего волновала судьба России во всех её ипостасях.
Это ли не феномен? Каким трудом всё В. Астафьеву далось в жизни! По собственному признанию, он «…как и многие из нас не научен был не только заниматься самоанализом, осмыслением бытия человеческого, но и ни над чем думать не умел, прежде всего над жизнью и поступками своими, а не только всечеловеческими». Жил, как и многие из нас, механической жизнью: чего-то делал, ел, спал.
Нам и сейчас (1997 год. – Ред.) всё ещё некогда, всё недосуг осмыслить наше время и подсчитать вред, нанесённый народу партийной идеологией и громоподобной, лукавой псевдокультурой.
В том, что он, так называемый советский народ, одичал при всеобщей грамотности, сделался бездуховным, злым, есть большая заслуга современной культуры, прежде всего литературы всеобщего социалистического культуризма.
Легко было управляться с нами, полуграмотными, полуслепыми, полуглухими, поражёнными ленивомыслием. Мы такие и нужны были партийной верхушке. Тех, кто смел «поумнеть», переступить грань бездумья, начинали сразу же и совершенно справедливо считать «не нашими».
Ох, Виктор Петрович, наши нынешние «массовики» сильно усовершенствовали псевдокультуру: она стала смелее в наглости, развязности, миллионы выпускаются по всякому поводу салютами, расстреливая остатки тишины в мире, в грохочущей, загазованной-закопчённой жизни нашей; а виды и число псевдогрупп во всех ветвях этой псевдокультуры таковы, что русских названий для них уже не находится (уж за это-то, конечно, слава Богу, не допустил именовать всё сие русским!)
Письма вообще особая статья в жизни В. Астафьева. Довелось мне на почте в Академгородке услышать вопрос одной сотрудницы к другой: «Что Астафьев делает с письмами, ведь они к нему прямо-таки мешками идут?» Эта тема не раз возникала на страницах его писем и даже книг, где он, сокрушаясь, сообщал, что не успевает отвечать на каждое
письмо, хотя и старается. Он и сам «вызывал огонь на себя», на всё откликался.
Например, услышал передачу «Встреча с песней» – и уже летит к её ведущему его письмо: «Дорогой Виктор Татарский!..»
В 1988 году передали Виктору Петровичу привет от Е.Ф. Светланова, а он пишет ему целый трактат – свои размышления о музыке. ≪Музыка – это самое честное из всего, что человек взял в природе и отзвуком воссоздал и воссоединил, и только музыке дано беседовать с человеком наедине! касаться каждого сердца по отдельности. Лжемузыку, как и массовую культуру, можно навязать человеку, даже подавить его индивидуальность, сделать единице-массой в дёргающемся стадо-человеке, истинную же музыку я бы назвал – молитвою пробуждения человеческой души, воскресения того, что заложено в человеке природой и Богом – для сотворения красоты и добра≫.
Для Виктора Астафьева совершенно очевидна истинная роль музыки в жизни человека,в состоянии его души.
Он пишет знаменитому дирижёру вдохновляющее письмо, радуясь, что «… не все ещё сердца остыли, очерствели, забетонировались,люди ещё и плачут от музыки, на Ваших концертах плачут, плачут о себе, о себе лучших, о том, кем они могли быть, должны были быть, но… потеряли себя в пути историческом, в большинстве – человеконенавистническом… особенно окончание нашего столетия, самого страшного».
Наблюдая за тем, что происходит со слушательской культурой, писатель обращает наше внимание на то, от чего человечество начинает отворачиваться и куда направляется в своей массе. И тревожится. ≪Думаю, не столь уж долго ждать, когда не под ≪Пятую симфонию≫ Чайковского, не под мелодию Глюка, не под дивные марши Моцарта и Шопена, не под самую мою заветную ≪Неоконченную симфонию≫ Шуберта, не под шаловливые пьесы Вивальди и Божественный ≪Реквием≫ Верди, не под ≪Молитвы≫ Березовского и Бортнянского, а под яростное пуканье военной трубы и ревущего зверем контрабаса, под стук первобытного барабана человечество спрыгнет, свалится с криком ужаса на дно пропасти, в кипящий огненный котёл…≫
В музыке В. Астафьев отдаёт предпочтение классике, в рок-музыке видит проявление одичания, неразвитости вкуса, как в массовой культуре отмечает (много раз с тревогой и болью возвращаясь к раздумью о ней) потрясающее невежество и скудоумие.
Размышления писателя о музыке постоянны и неслучайны. Стоит только вспомнить скрипку Васи-поляка из ≪Последнего поклона≫, ≪сиреневую музыку≫ из ≪Пастуха и пастушки≫, размышления о том, что у музыки можно научиться мастерству построения фразы, сюжета, организации словесно-звукового материала, утверждая, что много ему дал концерт для фортепьяно с оркестром Грига и Первый концерт для фортепьяно с оркестром Чайковского.
Тональность сочинения он считал фундаментом, отмечая, например, что повесть А.С. Пушкина ≪Капитанская дочка≫ скреплена единым, нигде ни разу не прервавшимся звуком.
Вероятно, те, кому приходилось слушать чтение самого Виктора Петровича, согласятся, что оно не менее выразительно, чем чтение мастеров-чтецов, которые легко соглашаются с тем, что проза Астафьева музыкальна.
Кстати, замечательный артист, певец Е.Е. Нестеренко писал ему: «Меня поражает Ваше музыкальное чувство», в этом тоже феномен его. Однако ещё о письмах, которые составили два тома Собрания сочинений, хотя отбирались они туда по принципу общеинтересности. Писали ему и юные, и старые как в какую-то самую последнюю инстанцию, чувствуя, вероятно, его отзывчивую, сопереживающую душу. И сами открывались так, что нельзя и читателю остаться равнодушным. Писали люди всяких профессий, всяких национальностей.
В письмах этих трепещет живая душа народа и народного писателя.
Многим от этих строк станет жгуче-стыдно за свою теплохладность.
Навсегда остался верен В. Астафьев однополчанам, даже в письмах к ним подписывался: «вечно твой Виктор».
В письме к Георгию Фёдоровичу Шаповалову он сообщал после получения его письма: «Я был так взволнован, спать не мог. Первое письмо писал ещё в 1946 году – нашёл меня Ваня Гергель, потом Слава Шадринов, потом Равиль Абдрашитов (в конце письма я напишу их адреса). Все они бывали у меня в Вологде, а два года назад я сговорил их собраться вместе, и мы рванули к Славе с Равилем, заехав по пути к Ване в Орск. <…>
Пишут мне многие из дивизии, со всех концов страны».
Писатель и помогал всем как мог. В 1991 году – сам будучи уже немолодым, 67-летним – он просил власти Алтайского края помочь своему фронтовому другу, в прошлом обладавшему громадной силой и воспитавшему пятерых детей, но вот «обезножел, сердце сдало». В 1981 году хлопотал он о жилье для вдовы собрата по перу и друга, фронтовика Константина Воробьёва, послав члену секретариата письмо на его домашний адрес с извинениями, что «не соблюл какие-то инстанционные нормы»: «Я так и не научился жить «по правилам»», всё живу в расчёте на человечность и дружество».
В. Астафьев стремился сохранить каждую каплю содеянного кем-либо добра. Не забывает он сообщить, что жена его деда Мария Егоровна Астафьева, жившая во втором бараке на окраине нового города Игарки, «часто и с благодарностью вспоминала коменданта, который не дал загинуть многим спецпереселенцам в первую страшную зиму – постоянно ходил по баракам, помогал словом и делом, не щадя себя, выполняя свой долг и проявлял человечность к людям, кои на заботу о них и доброту отвечали ещё большей добротой и самоотверженным трудом, иначе городу было бы не устоять, люди вымерли бы от цинги и бесправия». Писатель глубоко убеждён: «Русь, сколь бы её ни превращали в империю зла, стояла и держалась добрыми людьми».
Были письма, которые согревали душу. Так, из Якутска писала женщина о том, что «Последний поклон» стал настольной книгой рода Сабуровых, что она даёт эту книгу почитать всем заболевшим, расстроившимся, впавшим в уныние, и они все успокаиваются.
Поэт Любовь Яковлева из Черкасс в письме размышляла, что она благодаря его книгам «… остро, ясно и безысходно, каждой клеточкой существа моего, всей шкурой моей ощутила, что значит русский человек, как это видеть, понимать всё-всё в мире по-русски, по-русски в нём жить. Они помогли мне увидеть, как удивительно глубока и многосложна так называемая простая человеческая душа, как она может быть всеобъемлюще действенно-милосердной, сострадательной, мудрой, щедрой, бесконечной во всём. Какое может таиться в ней непоказушное благородство, истинное великодушие, достоинство, честь, совесть. И как больно, какой прочной пуповиной повязаны мы все со всеми и со всем вокруг. И многое, многое ещё подарили мне Ваши книги.
Всякое случалось: и ночь прореветь, и промаяться бессонницей, и продумать-передумать над Вашим словом столько, что ни в сказке сказать, ни в письме написать».
Удивительное письмо прислал В. Астафьеву – к его 70-летию – журналист В. Ивачев, почти тридцать лет собиравшийся ему написать. В молодости его сильно избили и ограбили на остановке автобуса, на окраине села Никольское Ленинградской области. И вот в больничной палате он прочитал повесть «Пастух и пастушка»: «Я не буду говорить громких слов. Я прочитал повесть одним дыханием и ещё часа два пролежал не шелохнувшись. Потом начал тихо улыбаться, хотя книга и оканчивалась горько. Палату словно залило солнце. Мне захотелось жить! И всё сильнее и сильнее хотелось жить, хотя несколько последних недель хотелось умереть, ведь я был безнадёжно переломан. И я стал так быстро выздоравливать, что врачи и сёстры были потрясены. И я тоже. Ну, буквально всё заживало в три раза быстрей. И с этой благодарностью к Вам прошли последние мои тридцать лет».
Не лишнее заметить здесь, что мастер оттачивал эту повесть долго. В письме к В. Колыхалову (1969 г.) он писал: «Повесть «Пастух и пастушка» пишу уже третий год, и конца работы ещё не видно, и я совершенно не уверен, что кто-либо решится её печатать». Добавим ещё: четырнадцать раз писатель эту повесть переписывал-совершенствовал.
В письмах В. Астафьева чувствуется трепетное отношение к человеку. Он совершенно не выносил фамильярности. Примеров тому множество, но вот хотя бы один: анализируя рукопись Валентина Сорокина, он пишет ему, что его герои форсят, жаргонят, даже город называют Владиком.
≪Но почему же никто из старших не оборвёт их? Кого это вы Владиком называете?≫ Да и рассказал бы этим сосункам о том, что такое для России этот город, сколько он стоит жизней, слёз. Какие люди основывали и отстаивали его. Рассказал бы так, чтоб сосункам и хотелось бы, да язык не поворачивался назвать этот город иначе, как по имени-отчеству≫.
Здесь же писатель приводит пример, как неприятно поразила его фамильярность и по отношению к человеку: ≪Есть такой прекрасный русский поэт Борис Ручьёв. Я как-то застал его в пьяной компании, где сидели литературные хлыщи, колотили его по плечу и орали: ≪Борька! Борис!≫ Меня покоробило. Человеку пятьдесят лет. Он столько пережил, что этим хлыщам на триста душ хватило бы, и вот… Сам я не могу так. У меня язык не повернётся. Он для меня – Борис Александрович, может быть, потому, что я умею уважать седины и горе человеческое≫.
Сейчас некоторые шибко передовые воспитатели ратуют за раскованность детей, и уже так в иных школах расковали, что успокоить их могут лишь вынужденные их поведением оковы.
Мы привыкли к тому, что В. Астафьев часто бывал безоглядно смел. Между тем в общении обыденном с людьми он чрезвычайно деликатен, старался никого не судить, не рубить сплеча.
Особенно запомнились его строки из письма к поэтессе Нинели Старичковой, которая написала свои воспоминания о поэте Николае Рубцове, погибшем, как известно, от рук женщины: ≪И спасибо, что Вы не запятнали его памяти и не пытаетесь пятнать, спасибо и за то, что не клеймите убийцу. Она – женщина и подсудна только Богу.
Низко-низко кланяюсь Вам и благодарю ещё раз≫. (1998 г.)
Много человеческого тепла в двух томах писем. Одна 46-летняя женщина прислала Виктору Петровичу светлое-светлое письмо, которое невозможно читать без слёз. У неё рак желудка в последней стадии с метастазами в кишечник, она не уверена, что дождётся весны, и решила написать, что прочла все его книги, очень их любит и желает ≪Счастья и здоровья всем Вашим родным≫.
Далеко не все письма были радующими, имели место и злоба, и угрозы, и проклятия, ибо писатель обо всём говорил нелицеприятно, откровенно.
И переписка его воистину феноменальное явление, феноменальное даже по количеству.
Со всех сторон слали ему и бандероли с рукописями, чаще всего не испрашивая на то его разрешения, согласия. Близкие люди, знавшие истинное состояние здоровья писателя и значение его книг, ругали его за безотказность, трунили над ним за постоянное отыскивание жемчужного зерна в графоманской куче. Но до конца своих дней старался он служить начинающим авторам, заступался за них.
Если ещё в 1979 году зажималось всё талантливое, карьеру на этом делали ловкие люди, то в 1970 году требовалось истинное мужество, которое проявил Виктор Петрович в письме к руководителям писательской организации, где говорил не только о застое в обществе, о сдерживании потенциальных творческих возможностей, об усталости творцов от атмо- сферы, где учинили ≪расправу над талантливейшим писателем России. Не довелось мне читать его новых романов – не люблю я читать и думать под одеялом – унизительно это для бывшего солдата и русского литератора, но и то, что я читал напечатанное в журнале, особенно ≪Матрёнин двор≫ – убедило меня в том, что Солженицын – дарование большое, редкостное, а его взашей вытолкали из членов Союза и намёк дают, чтобы вообще из ≪дома нашего≫ убирался.
А мы сидим и трём к носу, делаем вид, будто и не понимаем вовсе, что нас припугнуть хотят, ворчим по зауголкам, митингуем в домашнем кругу.
Стыд-то какой! Вчерашние бойцы, неустрашимые фронтовики и их спутницы делают вид, будто ничего не произошло и не происходит. Будто и не ведают, что кровью нашей завоёванное в мире уважение – распыляется, улетучивается, и те, кто был за нас, отвёртываются один за другим. Говард Фаст, Фрэнк Харди, Андрэ Стиль и покойный Джон Стэйнбек, даже Луи Арагон…
Что же – опять изоляция? Опять пресловутый ≪железный занавес≫?≫
Уже будучи 60-летним, сообщал он В. Курбатову, что будет хлопотать о выходе его книги: ≪Будь всегда уверен в том, что я ещё не устал помогать людям всем, чем могу≫.
Кому только он и в чём только не помогал!
В 1979 году В. Астафьев писал Ю. Грибову: ≪Почему Вы так спокойно и охотно печатаете до сих пор рассказы вторичные, безликие, а стало быть, и бесспорные? И почему превосходно (я настаиваю и говорю о рассказе Филипповича), профессионально написанное Вы своей властью сняли? Что, с серостью спокойней живётся? За серятину не взыщут≫.
За правду-матку писатель готов даже с ближайшим другом поссориться. Узнав, что Евгений Носов подошёл к роману Ивана Акулова как функционер, Виктор Петрович, высоко оценивший этот роман, пообещал автору, что будет говорить с Е. Носовым начистоту и, может быть, потеряет друга после такого разговора. Так-то вот! В житейских же своих контактах он ошибался в последние годы нередко, приближались иногда «разнообразные не те» по той причине, что Виктор Петрович просто-напросто не мог представить себе такого нравственного уровня, какой обнаружили, например, люди во время оно в Законодательном собрании Красноярского, родного ему, края.
А уж как несладко приходилось писателю с цензурой! Сколько он ни пытался «чистить» по указке её «Царь-рыбу» свою, она всё ещё казалась цензорам «островатой».
После очередного изуродованного цензурой рассказа он писал: «Мне давно-давно так тяжко не было. Я чувствую, как во мне что-то гаснет, притупляется. Боюсь стать равнодушным. Меня всё чаще и чаще тянет быть одному, тянет к замкнутости, к погружению в самого в себя. Но это – конец художнику! Это уже буду не я, а ктото другой станет водить моей рукой, а сердце будет молчать». (1967 г.)
В 1979 году сообщал он В. Курбатову: «Получил и первый отлуп из «Нашего современника» на «Зрячий посох» – он для меня никакой неожиданностью не сделался. Я знал, что едва ли сейчас напечатают вещь в том виде, как она есть, но редакцию, где меня будут меньше кастрировать, поискать следует». В 1987 году он писал в редакцию «Нового мира» при отсылке туда рассказов: «…я уже сам, по доброй воле, по своей (тьфу на меня, на про…) поработал за цензуру и карандашом снял «опасные места» – всё же сам я сделаю это лучше и чище, чем «чужие руки», и в первом рассказе удалось мне вывернуться из «щекотливых мест и ситуаций» (о Господи! Как иногда сдохнуть хочется!), и более его портить не надо, а снимут – что ж, не первый раз булыжник на голову. Будут лежать рассказы в столе. Соберётся сборник – пойду в верха, хотя и знаю, ничего доброго из этого не выйдет – могу сорваться, и срыв этот давно назрел: ведь правят и уродуют меня с первых рассказов!» А уж после выхода повести «Кража», «…в которой жёстко и прямо рассказывалось об обездоленных советской властью детях, о погубленных и замученных в тяжких ссылках их родителях, я попал под подозрение в соответствующих инстанциях как «очернитель» жизни, не видящий ничего светлого в нашей созидательной, полной энтузиазма действительности, и вся последующая продукция, выходящая из-под моего пера, читалась с особым «тщанием» и пристрастием во многоступенчатой, как её назвал Твардовский, цензуре».
Читая роман Олдингтона о войне, уже вынашивая своё слово о ней, В. Астафьев замечал, что есть созвучные мысли, но Олдингтон может говорить и писать, что думает, а он в самом главном вынужден будет изворачиваться, объяснять, маскироваться и ловчить, чтобы высказать те же самые мысли, ибо войны в сущности своей похожи: на них убивают людей, всё остальное не главное и пустяк по сравнению с этим.
Слава Богу, избавил Он писателя от такой цензуры, но не только этот роман написал, как мечталось, но во многих вещах восстановил «кастрированное» (сил, конечно, отнято сколько!), и они по-новому засияли, заискрились. Да вот хотя бы один пример: сравним содержимое сундука бабушки в главке «Монах в синих штанах» («Последний поклон») – я взяла с полки издание 1972 года и 15-томное, т.4. В подцензурном издании «испарилась» такая деталь: среди содержимого этого сундука были и «…церковные книжки и кое-что из церковного припрятанное – бабушка верит, что церковь не насовсем закрыта, и в ней ещё служить будут».
В 1967 году редакция журнала «Новый мир» изъяла из рассказа В. Астафьева такую жемчужинку: «Наносило от этой станции старым пахотным миром и святым ладанным праздником». Понятно, что неприятно разорителям деревни воспоминание о пахотном мире, а уж ладана-то, как народу известно, чёрт боится.
Требуются ли комментарии?
Не перестаю дивиться и радоваться прекрасному свойству астафьевской души – трепетному уважению к своим учителям, наставникам, помощникам. Никогда не забывал он своего первого учителя Игнатия Дмитриевича Рождественского, а наставнику своему и другу А.Н. Макарову целую книгу посвятил – «Зрячий посох».
Вспоминая о Василии Ивановиче Соколове (в «Краже» это Репнин), писатель сообщает: «Его давно нет, но я до конца дней буду хранить о нём добрую память, поклоняться его человечности, уму, такту и обаянию – всё, что было во мне плохого, начал из меня потихоньку выкорчёвывать и взращивать хорошее». Соколов – потомственный дворянин, образованнейший человек – и приохотил детдомовца к чтению.
Сколько он с благодарностью назвал добрых людей в своих произведениях, письмах и всё продолжал каяться, что, может, не всех ещё вспомнил, кто не дал «погибнуть моей семье в послевоенные годы, серьёзно и бескорыстно занимавшихся тем, чтобы поставить меня на твёрдые гражданские ноги, научить обращаться со словом, не пропить, не продать по дешёвке Божьего дара и совести, без которых в наше бесстыдное время жить будешь, но творить едва ли, разве что в угоду заказчику, а это равносильно смерти».
Никогда не забывал Виктор Петрович поблагодарить и за обычное гостеприимство. После поездки в Голландию он писал главе семьи, его приютившей: «Я понимаю, что во многом мои воспоминания и поездка так светлы и добры от доброты твоей и дома твоего. Чем я смогу вас отблагодарить – не знаю, но есть Бог, и Он за добро умеет воздавать добром, и не обойдёт ваш дом Его добрый и всемилостивейший взгляд, и Он вам везде и всюду помогать будет».
Все, пожалуй, его помощники помянуты благодарным словом.
Вероятно, поэтому Господь помог ему создать «Последний поклон» – произведение воистину хрестоматийное, где каждое словечко душевным жаром согрето, музыкой звучит, музыкой благодарения жизни, хотя только истинная духовность могла так и за всё без исключения благодарить, ибо ох какие крутые горки пришлось преодолеть ему, роду и народу его.
Феноменальна и эта его способность благодарения.
И умение дружить.
Среди его друзей нежно любимый Евгений Носов, в котором восхищала способность идти к познанию жизни от природы, радовало умение, например, дать точное цветовое определение ржи в утренний час, в полуденный зной или в пору заката.
Дорожил Виктор Петрович теплотой и доверительностью отношений с критиками А. Макаровым, В. Курбатовым, Н. Яновским, артистами Г. Жженовым, М. Ульяновым; очень любил В. Распутина, прозу которого, по его словам, надо читать, предварительно очистив душу; музыкантов Г. Свиридова, Е. Колобова, Е. Нестеренко, «апрельский голос» Е. Смольяниновой; Викторию Иванову не раз «вытаскивал» из Москвы к нам, своим землякам; восхищался талантом Дмитрия Хворостовского, любил песни артистки Театра им. А.С. Пушкина в Красноярске Светланы Сорокиной. Да, скажите на милость, кто же из творческих людей остался им незамеченным?
Как же хвалил меня Виктор Петрович, когда рассказала ему, что приглашённый мною в университет Константин Михайлович Скопцов более двух часов кряду держал живейшее внимание студентов-филологов: не захотели перерыва устраивать, а потом многие ходили на репетиции руководимого им хора, общались с ним: «Молодчина, что не упустила возможности показать студентам алмазный самородок».
Сам он всех своих знаменитых гостей водил к народному библиотекарю (в прошлом хирургу) Ивану Маркеловичу Кузнецову, души не чаяли друг в друге.
Убеждена, что очень многие могут вспомнить доброе слово писателя в личном с ним общении, в котором он обладал истинным талантом, ибо любил людей, особенно увлечённых. В рассказе «Ловля пескарей в Грузии», где с горячей любовью сказал он о богатейшей традиционной культуре Грузии, но также с горечью великой и о явлениях нравственного оскудения и дикости, В. Астафьев пишет: «Кланяйтесь, люди, поэтам и творцам земным – они были, есть и останутся нашим небом, воздухом, твердью нашей под ногами, нашей надеждой и упованием. Без поэтов, без музыки, без художников и созидателей земля давно бы оглохла, ослепла, рассыпалась и погибла. Сохрани, земля, своих певцов, и они восславят тебя, вдохнут в твои стынущие недра жар своего сердца, во веки веков так рано и так ярко сгорающего, огнём которого они уже не раз разрывали тьму, насылаемую мракобесами на землю, прожигали пороховой дым войн, отводили кинжал убийц, занесённый над невинными жертвами».
Перечитать бы некоторым грузинским деятелям этот рассказ теперь как воистину пророческий!
Ах, если бы научились люди слушать своих пророков! 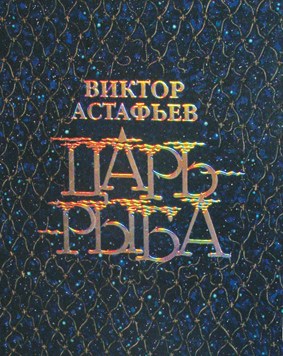 Писатель готов был сражаться – с обстоятельствами, с болезнями – за судьбу каждого талантливого человека, посланного ему жизнью. Вот он пишет письмо в крайком ВЛКСМ, призывая увековечить память рано умершего Бори Никонова, позаботиться о его матери: «…мы слишком привыкли к решению вопросов общих и глобальных, забывая, что какими бы те вопросы ни были глобальными и вообще всё, что есть и будет, – вытекает из жизни и судьбы человеческой, ибо каждый в отдельности взятый человек есть уже мир, мир неповторимый и никогда вновь не возникающий…
Писатель готов был сражаться – с обстоятельствами, с болезнями – за судьбу каждого талантливого человека, посланного ему жизнью. Вот он пишет письмо в крайком ВЛКСМ, призывая увековечить память рано умершего Бори Никонова, позаботиться о его матери: «…мы слишком привыкли к решению вопросов общих и глобальных, забывая, что какими бы те вопросы ни были глобальными и вообще всё, что есть и будет, – вытекает из жизни и судьбы человеческой, ибо каждый в отдельности взятый человек есть уже мир, мир неповторимый и никогда вновь не возникающий…
Придут тысячи, миллионы людей, пройдут годы, десятилетия, может, и столетия, но Борю Никонова, этого мальчика с капризными губами, девчоночьими ресницами и удивительно талантливой душой, никто и никогда не повторит…»
А вот он обращается к саратовскому коллеге, сообщая, что они с Евгением Ивановичем Носовым «доводили до ума повесть Вашего саратовского парня Виктора Политова». Узнал Виктор Петрович, что журнал повесть отклонил, а автор духом слаб и готов уж бросить писать, «…а жаль – парень он очень способный и внутренне чистый, глубокий, судя по письмам. <…> Жаль, если талантливый и умный человек сделается забулдыгой, их и без него многовато».
Как же радовался писатель успеху другого! Вот он сообщает В. Курбатову: «Шлю книгу Васи Юровских, специально выпросил для тебя. В больнице читал по кусочку, будто сахарок сосал. Так ли хорошо! Так ли славно! Так ли поэтично! Напиши-ка ты о нём, если ляжет на душу, что-нибудь трогательное <…> Шибко добрый и хороший мужик».
Уж если заметил В. Астафьев искорку в человеке – непременно поддержит. Вот пишет он своей немолодой корреспондентке: «Таким сердечным теплом повеяло от Вашего письма и от Ваших воспоминаний о брате и о себе ведь тоже… такие материалы нужны как воздух! Пусть современные молодые люди, а кое-кто и из старших зажравшихся совмещан, узнают, как нам досталось наше относительное благополучие и что сделали и вытерпели люди ради лучшей жизни на русской земле.
Писать Вам нужно, не стыдясь своих четырёх классов… Дело ведь не в классах, а в самообразовании, в прирождённой внутренней культуре, которая порой бывает тоньше, поэтичней, чем у людей с «поплавком» на борту пиджака».
И как же огорчался писатель, когда талантливый поэт «плохо, вяло распоряжался своим дарованием!» Одному из них, нашед у него «строчки и кусочки, достойные пера больших поэтов», писал, что надо преодолевать вяломыслие, вторичность, много работать: «Понимаю, что огорчаю тебя своим письмом, да что делать-то? Раз написал на книжке «солдат солдату» – давай слушай, терпи и дальше иди. Ещё есть у нас немножко времени» (1984 г.).
Ещё одному автору присланной рукописи В. Астафьев советует положить её на домашнюю полку, написав на ней: «Детям, внукам и правнукам, – если они захотят что-то знать о жизни моей и того поколения, в котором я вырос и как мог служил, работал на благо своей Родины и народа».
Даже из приведённых здесь немногочисленных примеров заботы о других (а в книгах писателя их не счесть) мы можем понять: ах, вот где корни «Встреч в русской провинции». Общению творческих людей В. Астафьев придавал огромное значение, тем более время-то какое свалилось! Наверное, эти встречи ещё будут осмыслены их участниками: как мог писатель защищал-поддерживал неприкаянных творческих людей от одиночества, отчаяния и одичания. Сам он то и дело собирал народ то в краевой библиотеке (читал при полном конференц-зале свою статью о Гоголе; в другой раз читал свой рассказ «Людочка»), то в разных учебных заведениях. Очень лёгок был на подъём: отзывался на приглашения выступить в школах, даже в Подтёсово ездил. Встретить писателя можно было на симфонических концертах, выставках художников, в театрах, прежде всего оперы и балета; в овсянской библиотеке он нередко вместе с её сотрудниками слушал любимые романсы, тихонько подпевая.
Всеопределяющий его талант и всепоглощающий – талант человечности, любви ко всему живому; народное слово, народное мировосприятие, народная мудрость, несуетность: отсюда стабильность его представлений и оценок.
В. Астафьев не бунтарь, многое поддерживал в перестройке, ибо жизнь атеистического государства зашла в полный тупик, и народ российский, по словам нашего мужественного земляка в письме к Владимиру Лакшину (1988 г.), «находится на крайней стадии усталости, раздражения и унижения. Его истребляли варварски, а теперь он безвольно самоистребляется, превращается в эскимосов в своей стране. <…> Зачем мы матушку Россию превратили в «империю зла» или способствовали этому и далее способствуем? Нам что, уже совсем мало осталось жить – существовать? Ведь только «на самом краю» над пропастью, куда сваливают безбожников, можно так себя вести. «Бывали хуже времена, но не было подлее».
Неужели гибель моего народа-страдальца кому-то в утеху, в утоление ненавистной жажды?»
Много-много раз у В. Астафьева рвётся из груди плач о русском народе, как у плакальщика, нашего праведника, нашего Иова, не о себе горюющего. В письме к польскому писателю Збигневу Домино (родители его были ссыльными, мать его похоронена где-то у р. Поймы) он размышлял: «…каково-то целому народу, богато одарённому, доброму, выдерживать страдания всяческие, муки, унижения, и всё оттого, что его злят, как собаку, то костью дразнят, то палкой бьют. Вот и добили, доунижали, дотоптали – сам себе и жизни не рад народ русский. И что с ним будет? Куда его судьба кинет или занесёт – одному Богу известно. Уповаем на чудо и на разум человеческий. Думаю, ни людям, ни небесам легче не будет от того, что загинет русский народ. Он может за полу шубы стащить в прорубь за собой всё человечество».
В предисловии к первому тому Собрания сочинений писатель воздыхает: «О, родина моя! О, жизнь! О, мой народ! Что вы есть-то? Чего ещё надо сделать, чтобы прозреть, воскреснуть, не провалиться в небытие, не сгинуть? И если ты ещё есть, мой народ, может, вслушаешься в слова современного гонимого поэта: «А может, ты поймёшь сквозь муки ада, сквозь все свои кровавые пути, что слепо верить никому не надо, и к правде ложь не может привести».
Причину многих бед писатель формулирует в январском письме 1989 года: «…сейчас ни сиротам, никому пощады нет, все несут кару за сотворённые нашими комиссарами и дураками преступления перед Богом и миром».
По астафьевским строкам потомки будут судить, как досталась нам перестройка. Дело ему было до всего. В ноябре 1996 года побывал в женской колонии строгого режима, где по третьему, а кто и по четвёртому, разу сидят женщины и девушки, увидел, что там опрятнее и сытнее, чем в наших вузах, и хотя говорил им, чтобы не привыкали к этому месту «…я про себя, и они про себя подумали, что наружу им не надо, хуже у нас тут, чем в тюрьме. <…> И вот уж (подбирая книги для их библиотеки) сколько дней я про себя думаю: что-то, товарищ Астафьев, у тебя с головой неладное иль в мире всё опрокинулось, и наша лагерная жизнь выглядит лучше, чем не лагерная. Тут ведь недалеко уж и до того, чтобы обратно Гулаг позвать вместе с воспитателями, а в этом лагере его, воспитателя, всё ещё зовут – замполит».
Незачем пересказывать и толковать размышления писателя о народе, их надо цитировать: «Мы, русские, так ничему и не научились, – с горечью писал он в 1997 году, – все неисчислимые жертвы и муки народа, войну перемогшего, кажется, забыты. Это в стране, где народ до сих пор не восстановился, население после войны не прибыло, а убыло. Запутанный большевистской демагогией, во все времена обманываемый народ, снова желающий обмануться, вроде как бы не понимающий простых истин, так и не пришедший к Богу с покаянием. <…>
Поразительная страна! Феноменальный народ! Шёл-шёл по трупам и потокам крови к светлому будущему, теперь готов идти тем же кровавым путём к «светлому прошлому».
В 1990 году В. Астафьев пишет литературоведу, автору многих книг, в том числе об А.С. Пушкине, В. Непомнящему: «Ваша статья («Предполагаем жить».. – А.П.) – ещё и утверждение, что честная мысль всегда чиста, смела, надзору не по уму и не по силам. А о том, что своим мученичеством растерзанная и издыхающая Россия спасла христианскую цивилизацию, я тоже робко размышлял, но не смел углубиться в эту истину, казавшуюся настолько колоссальной, что она вроде и не по уму моему, а Дмитрий Сергеевич Лихачёв по пути из гостиницы «Россия» до зала съезда народных депутатов, увидя меня в подавленном состоянии и догадавшись о причине моей подавленности, коротко и просто сказал мне об этом, и я «прозрел», и мне не то чтоб легче стало жить, но посветлело на душе и хоть что-то делать на земле захотелось, руки потянулись к столу, к работе».
В 1995 году В. Астафьев снова размышляет «о народе нашем, великом и многотерпеливом, который, жертвуя собой и даже будущим своим, слезами, кровью, костьми своими и муками спас всю землю от поругания, а себя и Россию надсадил, обескровил. И одичала русская святая деревня, устал, озлобился, кусочником сделался и сам народ, так и невосполнивший потерь нации, так и не перемогший страшных потрясений, военных, послевоенных гонений, лагерей, тюрем и подневольных новостроек, и в конвульсиях уже бившегося нашего доблестного сельского хозяйства, без воскресения которого, как и без возвращения к духовному началу во всей жизни, – нам не выжить».
Прислушаемся к себе: так ли в нас жива, сильна и неизбывна мысль о народе, о России…
В. Астафьев не только печалился, но постоянно обдумывал и выход: в публицистике своей и художественной прозе. Например, в повести «Так хочется жить» он пытался «образумить, предостеречь людей русских – нам не выдержать новой смуты, если мы схватимся в междоусобице. Это будет уже последняя кровь. Пока ещё есть надежда, пусть и небольшая, на спасение народа, воскресение Руси. Но если начнём свалку, ничего не останется: ни народа, ни государства нашего Великого».
Много в книгах его упрёков народу, но он не отделяет и себя от него: «Да, за отношение наше к нашим предкам, родным и близким, за покинутые и поруганные русские кладбища, в том числе и воинские, не только нас, аховых родичей, но и весь наш загнанный народ Господу следовало бы побить каменьями, Он уже и начинает это делать, правда, нам всё недосуг сие заметить, думаем, что беды, как кирпичи с неба, падают случайно, вовсе не по нашей вине падают на наши головы, просто наверху не туда и не в тех целятся».
Горестно вопрошает писатель о текущей жизни в 1997 году, что к этому времени образовалось: «Антисреда? Антижизнь? Антитруд? Антиискусство? Какой народ, какая культура выдержали бы то, что у нас свершилось? Только очень сильный народ, только мобильная культура. В нас заложены крепкие мускулы, большой духовный заряд, которому мы, увы, предпочли заряд разрушительный, взрывающий, потому как убивать человек научился раньше, чем думать, творить, и эта работа ему привычнее».
Причину всех бед наших В. Астафьев совершенно справедливо видит в отлучении от Бога, тогда как «все великие гении земли верили в Бога иль вступали с Ним, как Лев Толстой, в сложные противоречивые отношения. Бог есть Дух, Он всегда с нами, даже когда вне нас, Он – Свет пресветлый – и есть та боязная тайна, к которой, с детства прикоснувшись, человек замирает в себе с почтением к тому, что где-то что-то есть, а когда один остаёшься – оно рядом, оно постоянно оберегает, руководит нами, одаривает, кого звуком, кого словом и всех, всех – любовью к труду, к добру, к созиданию.
Антонина Пантелеева, к.ф.н.
(Окончание следует)
Метки к статье:
Автор материала:
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.